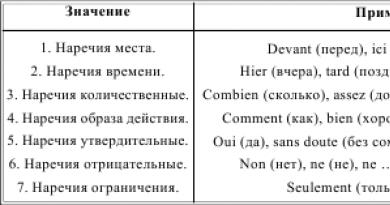1.1.3.1. В мышлении Нового времени вплоть до современности вновь и вновь выдвигались возражения против возможности метафизики. Чаще всего они восходят к номинализму позднего Средневековья (со времен Уильяма Оккама, 1300-1349), который выхолащивает значимость всеобщего понятия (universale). Последнее не полностью отрицается (как в радикальном номинализме XI столетия), но рассматривается лишь как внешнее обозначение словом (nomen). Согласно учению позднего номинализма (называемого также концептуализмом), мы хотя и образуем понятия мышления, но они не схватывают самого смысла или сущности вещей. Представители этого направления мысли сами называли себя "nominales". Следовательно, мы можем исторически причислить их к номинализму, который в позднем Средневековье и в начале Нового времени считался "современным" и смог оказать дальнейшее влияние на новейшее мышление.
Если тем самым уже в сфере опыта понятия утрачивают свою реальную значимость, го еще меньше они могут осмысленно употребляться за пределами опыта. Высказывания о целокупности бытия становятся невозможными. Абсолютное бытие Бога рационально уже не достижимо, понятийно не выразимо. Метафизика становится невозможной.
1.1.3.2. Из этого исходит английский эмпиризм (Джон Локк, 1632-1704), радикальнее – Давид Юм (1711-1776). Чем менее значимо понятийно-рациональное мышление, тем более мы обращаемся к единичному опыту. Но опыт здесь редуцируется к голому чувственному впечатлению. После французского Просвещения (энциклопедисты), которое признавало одни лишь эмпирические науки, выступает позитивизм (Огюст Конт, 1798-1857), ограничивающий познание "позитивным" научным опытом. Конт различает теологический, метафизический и позитивный века. Если некогда мировые события мифологически-религиозно объяснялись посредством божественных сил, то метафизическое мышление апеллирует ко всеобщим и необходимым законам бытия. Истина, напротив, находится исключительно лишь в "позитивно" данном и эмпирически научно исследуемом.
При таких воззрениях усмотрение разумом не имеет самостоятельной, выходящей за пределы чувственного познания функции. Метафизика, требующая производить высказывания о целокупной действительности и, мысля, достигать абсолютного бытия, становится несостоятельной и бессмысленной. Однако уже Юму становится ясным, что редукция нашего познания к чувственным впечатлениям и соответствующая реконструкция цельного мира познания, базирующаяся исключительно на чувственных данных, должна потерпеть неудачу. Реальное бытие растворяется в связке чувственных качеств, в мире видимости чувственных феноменов. Но это не есть мир, в котором мы живем. Против Юма свидетельствует то, что мы никогда не живем в одном лишь чувственно воспринимаемом, но всегда в духовно пронизанном и понимаемом мире. И все же такие воззрения решающим образом воздействовали не только на Канта, но и на других, вплоть до неопозитивизма XX столетия.
1.1.3.3. Иммануил Кант (1724-1804) вышел из рационалистической школьной философии своего времени (Лейбниц, Вольф), но благодаря эмпиризму Юма пробудился от "догматической спячки". "Критика чистого разума" (1781) ставит вопрос о возможности метафизики как науки. При этом Кант предполагает понятие метафизики в духе своего времени – не как знание о бытии, а как чистую, основанную на разуме науку о сферах специальной метафизики (согласно Вольфу): душа, мир и Бог. Таким же образом он исходит из понимания науки согласно норме точного математически-естественнонаучного познания: как знания о всеобщих и необходимых законах. Чтобы решить вопрос о возможности метафизики, он восходит к предшествующим (априорным) условиям возможности познания. В этом состоит трансцендентальный поворот его мышления: от предмета (объекта) к его "a priori" (до всякого опыта) данным условиям (в субъекте). Последние суть, согласно Канту, априорные формы чувственного созерцания (пространство и время), чистые рассудочные понятия (категории) и идеи чистого разума. Однако познание вынуждено ограничиться "синтезом" чувственного созерцания и мышления рассудка. Поэтому для Канта оно ограничено "возможным опытом" и (в рамках его сферы) "голым явлением". "Вещь сама по себе" предположена, но остается непознаваемой.
Идеи чистого разума (душа, мир и Бог) даны нам a priori благодаря сущности разума, мы должны их "мыслить" сообразно разуму, но не можем их "познавать" как действительные, ибо для этого недостает чувственного созерцания. Нет места познанию как синтезу созерцания и мышления. Метафизика как наука невозможна.
Тем не менее метафизика остается для Канта не только "природной склонностью" человека, согласно которой мы обязаны мыслить "Бога, свободу и бессмертие", но не познавать что-либо действительное. В "Критике практического разума" (1788) метафизика вновь возникает в форме "постулатов практического разума" как содержаний "веры", т.е. практически-нравственной веры разума, но не строгого "знания", как его понимает Кант согласно норме точного естествознания своего времени.
1.1.3.4. Кантовская критика метафизики имела далеко идущие последствия. С одной стороны, из кантовского "трансцендентального" мышления исходит немецкий идеализм (Фихте, 1762-1814; Шеллинг, 1775-1854; Гегель, 1770-1831), который сконструировал обширные системы спекулятивного мышления, поскольку возродил метафизическое устремление, однако в значительной мере предался пантеистическому влечению (особенно Гегель).
С другой стороны, после упадка идеализма (после смерти Гегеля в 1831) прогрессировало анти-метафизическое позитивистское , а также материалистически-атеистическое мышление, отчасти опирающееся на Канта. Тезис о том, что метафизика невозможна, казался окончательно доказанным; он превратился в догму. Кант был понят (или ложно понят) как разрушитель всякой метафизики, поэтому ее представители (особенно в схоластике) боролись с ним как с заклятым врагом. Лишь много позже (особенно начиная с Жозефа Марешаля, 1878-1944) "трансцендентальное" мышление в Кантовом смысле было позитивно воспринято и оценено, чтобы "преодолеть Канта благодаря Канту" и произвести новое основоположение метафизики.
1.1.3.5. В совершенно ином смысле критикует метафизику Мартин Хайдеггер (1889-1976). Хотя он ставит вопрос о "смысле бытия" ("Бытие и время", 1927), но вся традиционная метафизика осуждается им как "забвение бытия", ибо она вопрошала лишь о "сущем" (о его сущности и сущностных законах), но не вопрошала о "бытии", благодаря которому "есть" сущее. Метафизика, по сути, есть "нигилизм", ибо "не имеет ничего общего с бытием". Настойчиво ставившийся Хайдеггером вопрос о бытии оказал длительное влияние на метафизическое мышление (Жильсон, Зиверт, Лотц и др.) и вызвал новое осмысление бытия (от actus essendi вплоть до ipsum esse у Фомы). Хайдеггер подчеркивал "онтологическое различие" между сущим и бытием. Однако он понимает бытие как время и историю бытия, т.е. как темпорально-историческое событие, которое наделяет нас соответствующей судьбой, а также исторически обусловленным пониманием бытия. Оно соответствует раннегреческой власти судьбы (moira) и образует предельный горизонт мышления. Отсюда вряд ли есть путь к метафизическому мышлению бытия, которое Хайдеггер решительно отвергает (особенно "Статьи", 1989). Метафизика "преодолена". Это воззрение, связанное с влиянием нигилизма Ницше, в настоящее время оказывает заметное влияние, примером тому – "постмодерн".
1.1.3.6. Совершенно по-иному к метафизике подходит аналитическая философия, которая развивалась частично в Англии (из эмпиристской традиции), частично в Вене ("Венский кружок" 30-х годов). Она поначалу представляла преимущественно "неопозитивистское" воззрение. Так, в Вене (М. Шлик, Р. Карнап и др.) критерием смысла стали считать "верифицируемость". Предложение (высказывание) может лишь тогда считаться объективно "осмысленным", когда оно принципиально верифицируемо, т.е. удостоверяемо данными опыта, следовательно, интерсубъективно перепроверяемо. Высказывание, превышающее эти пределы и этому критерию не соответствующее, ни истинно ни ложно, а просто "бессмысленно", ибо беспредметно. Метафизическое высказывание, поскольку оно эмпирически не верифицируемо, есть пустая "поэзия понятий", лишенная объективной познавательной ценности.
Это воззрение исповедовала уже ранняя критика, в особенности К. Поппер, а также Л. Витгенштейн, которые никогда не принадлежали к кружку, но оказали на него влияние. Между тем аксиома смысла сама есть высказывание, которое эмпирически не верифицируемо, однако претендует быть не только осмысленным, но и нормативно значимым. Так как сверх того всеобщее высказывание вообще эмпирически адекватно не верифицируемо, то верифицируемость заменяется (уже К. Поппером) "фальсифицируемостью": даже отдельный факт может опровергнуть значимость всеобщего предложения. Хотя позитивизм этим смягчен, но не преодолен.
Однако узко позитивистская установка задается почти повсюду в дальнейшем развитии аналитической философии. Между тем философы, принадлежащие к этому направлению мысли, особенно в англосаксонском мире (Англия, США), занимаясь сегодня, например, философией религии (Philosophy of Religion), пытаются объяснить отношение тела и души (Philosophy of Mind) и обращаются преимущественно к проблемам, традиционно считавшимся "метафизическими" (сущностные отношения и т.п.). Таким образом, аналитическая философия, если она позитивистски не сужена, оказывается критически-коррективным, позитивно интегрируемым элементом метафизического мышления, но не его основополагающим методом.
Уже Кант установил, что "аналитическое суждение" (рационализм) не является достаточным для обоснования научного, тем более метафизического, познания, ибо оно есть "поясняющее суждение", а не "расширяющее суждение". Аналитически можно эксплицировать лишь то, что мы уже (имплицитно) знаем и высказываем, но отсюда не происходит прогресс познания. Это точно так же в значительной мере касается и аналитической философии, поскольку она остается чисто "аналитической". В таком случае она может анализировать и корректировать суждения критикой языка, однако не ведет к дальнейшим уразумениям , тем более в сфере метафизики. Последняя предполагает методически иное обоснование, которое Кант формирует в "синтетических суждениях a priori"; к этому мы еще вернемся в вопросе о методе (ср. 1.2.5).
Начиная с греческих скептиков, вплоть до эмпиристов XIX столетия, имелось много противников метафизики. Вид выдвигаемых сомнений был различным. Некоторые объявляли учение метафизики ложным, так как оно противоречит опытному познанию. Другие рассматривали ее как нечто сомнительное, так как ее постановка вопросов перешагивает границы человеческого познания.
Благодаря развитию современной логики стало возможным дать новый и более острый ответ на вопрос о законности и праве метафизики. В области метафизики (включая всю аксиологию и учение о нормах) логический анализ приводит к негативному выводу, который состоит в том, что мнимые предложения этой области являются полностью бессмысленными.
Мы утверждаем, что мнимые предложения метафизики путем логического анализа языка разоблачаются, как псевдопредложения. Язык состоит из слов и синтаксиса, т. е. из наличных слов, которые имеют значение, и из правил образования предложений; эти правила указывают, каким путем из слов можно образовывать предложения различного вида. Соответственно имеются два вида псевдопредложений: либо встречается слово, относительно которого лишь ошибочно полагают, что оно имеет значение, либо употребляемые слова, хотя и имеют значение, но составлены в противоречии с правилами синтаксиса, так что они не имеют смысла. Если слово имеет значение, то оно обозначает «понятие»; но если только кажется, что слово имеет значение, то мы говорим о «псевдопонятии».
Значение многих слов, а именно преобладающего числа всех слов науки, можно определить путем сведения к другим словам. Посредством такого сведения слово получает свое содержание.
Если значение слова определяется его критерием, то после установления критерия нельзя сверх этого добавлять, что «подразумевается» под этим словом. Следует указать не менее, чем критерий; но нужно также указать не больше, чем критерий, ибо этим определяется все остальное.
Если для нового слова не установлен критерий, то предложения, в которых оно встречается, ничего не выражают, они являются пустыми псевдопредложениями.
Многие слова метафизики, как теперь обнаруживается, не отвечают только что указанным требованиям, а, следовательно, не имеют значения.
Имеется еще и второй вид псевдопредложений. Они состоят из слов, имеющих значение, но эти слова составлены в таком порядке, что оказываются лишенными смысла. Синтаксис языка указывает, какие сочетания слов допустимы, а какие нет.
Однако, многие метафизические предложения не так легко разоблачаются, как псевдопредложения. Тот факт, что в обычном языке можно образовать бессмысленный ряд слов без нарушения правил грамматики, указывает на то, что грамматический синтаксис, рассмотренный с логической точки зрения, является недостаточным. Если бы грамматический синтаксис точно соответствовал логическому синтаксису, то не могло бы возникнуть ни одного псевдопредложения.
Если наш тезис о том, что предложения метафизики являются псевдопредложениями, верен, то в логически правильно построенном языке метафизика совсем не могла бы быть выразима. Отсюда вытекает большое философское значение задачи создания логического синтаксиса, над которым работают логики в настоящее время.
Метафизические предложения нельзя рассматривать и как «рабочие гипотезы», ибо для гипотезы существенна ее связь (истинная или ложная) с эмпирическими предложениями, а именно это отсутствует у метафизических предложений.
В действительности дело обстоит таким образом, что осмысленных метафизических предложений вообще не может быть. Это вытекает из задачи, которую поставила себе метафизика: она хочет найти и представить знание, которое недоступно эмпирической науке.
Логический анализ выносит приговор бессмысленности любому мнимому знанию, которое претендует простираться за пределы опыта.
Приговор бессмысленности касается также тех метафизических направлений, которые неудачно называются теоретико-познавательными, а именно реализма (поскольку он претендует на высказывание большего, чем содержат эмпирические данные).
В случае с метафизикой дело обстоит так, что форма ее произведений имитирует то, чем она не является. Эта форма есть система предложений, которые находятся в (кажущейся) закономерной связи, т. е. в форме теории. Благодаря этому имитируется теоретическое содержание, хотя таковое отсутствует. Метафизик верит, что он действует в области, в которой речь идет об истине и лжи. В действительности он ничего не высказывает, а только нечто выражает как художник.
Предположение, что метафизика является заменителем искусства, причем недостаточным, подтверждается тем фактом, что некоторые метафизики, обладающие большим художественным дарованием, например Ницше, менее всего впадают в ошибку смешения. Большая часть его произведений имеет преобладающее эмпирическое содержание; речь идет, например, об историческом анализе определенных феноменов искусства или историко-психологическом анализе морали. В произведении, в котором он сильнее всего выразил то, что другие выражали метафизикой и этикой, а именно в «Заратустре», он выбрал не псевдотеоретическую форму, а явно выраженную форму искусства, поэзию.
Критика метафизики и разложение западного рационализма: Хайдеггер
Если Хоркхаймер и Адорно полемизируют с Ницше, то Хайдеггер и Батай собираются под знаменем Ницше на свою последнюю битву. Опираясь на лекции [Хайдеггера] о Ницше 1930-х и начала 1940-х гг., мне хотелось бы прежде всего показать, как Хайдеггер начинает исподволь использовать дионисический мессианизм, преследуя определенную цель - перейти порог и приблизиться к постмодерному мышлению, двигаясь по пути преодоления метафизики, как она полагается этим мессианизмом изнутри. На этом пути Хайдеггер и приходит к темпорализированной философии истока. Что я под этим подразумеваю, будет видно на примере четырех операций, которые Хайдеггер осуществляет, полемизируя с Ницше.
1) Прежде всего Хайдеггер возвращает философию на позицию господства, которую она потеряла в результате критики со стороны младогегельянцев. Тогда десублимация духа была осуществлена еще непосредственно в гегелевских понятиях - как реабилитация внешнего по отношению к внутреннему, материального по отношению к духовному, бытия относительно сознания, объективного относительно субъективного, чувственности относительно рассудка и опыта относительно рефлексии. Итогом этой критики идеализма стало то, что философия лишилась своей власти - не только над своенравным движением науки, морали и искусства, но и над своими правами и привилегиями в политико-социальном мире. Хайдеггер сполна возвращает философии утраченную власть. Для него исторические судьбы культуры или общества определяются фактически всякий раз с точки зрения смысла, исходя из коллективно обязательного предпредставления, предзнания о том, что может случиться в мире. Это онтологическое предзнание зависит от основных понятий, которые очерчивают горизонт; определенным образом в этих понятиях и предвосхищается смысл существующего: «Всегда, если стремятся познать существующее - как дух в смысле спиритуализма, как вещество и силу в смысле материализма, как становление и жизнь, как волю, как субстанцию или субъект, как энергию, как вечное возвращение, - всякий раз существующее является как существующее в свете бытия» .
В Европе именно метафизика является той точкой, в которой это предзнание артикулировано наиболее ясно. Эпохальные трансформации понимания бытия отражаются в истории метафизики. Уже для Гегеля история философии стала ключом к философии истории. Аналогичный статус приобретает у Хайдеггера история метафизики; с помощью метафизики философ овладевает источниками света, от которых каждая эпоха судьбоносно отражает свой собственный свет.
2) Эта идеалистическая оптика имеет свои последствия для критики модерна Хайдеггером. К началу 1940-х гг. - как раз в то время, когда Хоркхаймер и Адорно писали в Калифорнии свои полные отчаяния тексты (впоследствии они были изданы как «Диалектика просвещения»), - Хайдеггер открывает в политических и милитаристских формах проявление тоталитарного «осуществления всемирного господства Европы нового времени». Он говорит о «борьбе за мировое господство», о «борьбе за неограниченное использование земли как источника полезных ископаемых и о свободном от всяких иллюзий использовании человеческого материала ради безусловного укрепления "воли к власти"» . В манере, где-то выдающей восхищение, Хайдеггер характеризует сверхчеловека по образцу идеального типа эсэсовца: «Сверхчеловек - это прорыв человечества, которое хочет стать таким прорывом и сражается за это... Этот человеческий прорыв полагается в рамках бессмысленного целого воли к власти как «чувство земли». Последний период европейского нигилизма - это «катастрофа» в смысле преобразования, которое утверждает» . Хайдеггер видит тоталитарную сущность своего времени; ее характеристики - распространявшаяся в глобальных масштабах технизация процесса покорения и овладения природой, войны и расовая рознь. Во всем этом выражается абсолютизированная целерациональность «прорыва, разрушения любых планов и практик».
Однако само разрушение имеет основанием своеобразное понимание бытия, пришедшее из Нового времени; начиная с Декарта и кончая Ницше оно становилось все более радикальным: «Эпоха, которую мы называем Новым временем... определяется тем, что человек является масштабом и центром существующего. Человек - это существующее всегда и везде, т.е. то, что лежит в основе любой опредмеченности, всего, что можно представить, это subiectum» . Оригинальность Хайдеггера состоит в том, что он упорядочивает господство субъекта в Новое время с позиции истории метафизики. Декарт стоит где-то между Протагором и Ницше. Он приходит к пониманию субъективности самосознания как абсолютно очевидной и определенной основе представления; тем самым субъект превращается в субъективный мир представляемых объектов, а истина - в субъективную очевидность .
В своей критике субъективизма Нового времени Хайдеггер подхватывает мотив, который со времен Гегеля становится проблемной составляющей дискурса о модерне. Онтологическое измерение, заданное Хайдеггером, не представляет особого интереса в отличие от той безапелляционности, с которой он начинает суд над субъект-центрированным разумом. Хайдеггер практически не обращает внимания на различие, существующее между разумом и рассудком, исходя из которого еще Гегель стремился развивать диалектику просвещения. Сам Хайдеггер, а вовсе не ограниченное и тупое Просвещение нивелирует разум к рассудку. То же самое понимание бытия, которое побуждает модерн к неограниченному распространению своей власти распоряжаться опредмеченными процессами природы и общества, принуждает субъективность, фактически брошенную на произвол судьбы, устанавливать связи и принимать на себя обязательства, которые служат защитой для ее императивного осуществления. Поэтому нормативные обязательства, которые самой субъективностью и создаются, оказываются просто идолами. Следуя этой установке, Хайдеггер так основательно разрушает разум Нового времени, что сам практически уже не может отличить универсалистское содержание гуманизма, Просвещения от собственного позитивизма, с одной стороны; с другой - Хайдеггер не проводит различий между партикулярными представлениями расизма и национализма и обращенными в прошлое учениями в [культурных] типах в духе Шпенглера или Юнгера . Неважно, выступают ли идеи модерна от имени разума или призывают к разрушению разума; призма понимания бытия, как оно сложилось в Новое время, преломляет все нормативные ориентации, превращает их в притязания на власть субъективности, помешанной на собственном возвеличивании.
Между тем критическая реконструкция истории метафизики не может осуществляться, если она не располагает собственным масштабом для такой процедуры. Уйти от этого позволяет имплицитно нормативное понятие «осуществления» метафизики.
3) Идея начала и конца метафизики обязана своим критическим потенциалом следующему обстоятельству: Хайдеггер, так же как и Ницше, движется в рамках модерного сознания времени. Для Хайдеггера начало Нового времени характеризуется эпохальным переломом, философией сознания, связанной с именем Декарта; а радикализация этого понимания бытия, осуществленная Ницше, отмечает начало новейшего времени, которое и определили констелляции современности . Это время является как время кризиса; современность тяготит бремя выбора, «является ли это время концом европейской истории или маневрами для нового начала» . Речь идет о выборе решения - «доверит ли себе Европа еще раз поставить цель, возвышающуюся над историей и над Европой, или все сложится так, что придется погрузиться в рутину восприятия и стимулирования интересов практики и жизни; удовлетвориться специализацией на существующем до сих пор, как будто это и есть абсолютное» . Необходимость другого, иного начала заставляет взглянуть на вакуум будущего. Возвращение к истокам, к «генеалогии сущности» мыслимо только в модусе движения к «сущности будущего». Такое будущее появляется в конечном счете за категорией нового: «Завершение эпохи... это безусловный, а в будущем совершенный зачаток нежданного и того, что никогда нельзя ждать... Это новое» . Мессианизм Ницше, который все-таки охраняет пространство сцены для того, чтобы (как в иудаистской мистике) «потеснить благодать, благополучие и счастье», Хайдеггер фальсифицирует, превращает в апокалиптическое ожидание катастрофического прихода, наступления нового. Одновременно Хайдеггер избегает использовать романтические образы, прежде всего гёльдерлиновскую фигуру отсутствующего бога, для того, чтобы прийти к пониманию метафизики как «свершения и завершения» и как знака «другого начала» - знака, который не может ввести в заблуждение.
Когда-то Ницше, оттолкнувшись от вагнеровских опер, надеялся одним прыжком, наподобие тигра, переместиться в перспективы прошлого древнегреческой трагедии; так же и Хайдеггер хотел бы оттолкнуться от ницшевской метафизики воли к власти, чтобы прийти к досократовским истокам метафизики. Однако прежде чем Хайдеггер сможет описать историю Европы периода начала метафизики и ее конца как ночь вдали от богов, прежде чем он увидит в конце метафизики возвращение бога, пробудившегося ото сна, ему придется установить соответствие, найти связь между Дионисом и задачами метафизики, если они имеют что-то общее с бытием существующего. «Полубожество»
Дионис предстал перед романтиками и Ницше в качестве отсутствующего бога - образ его и дал возможность понять в модерности, покинутой богом (при помощи понятия «максимальной удаленности»), то нечто в социальной энергии связи, которое ускользало от модерности, охарактеризованной при помощи параметров ее собственного прогресса. Мостом между этой мыслью о Дионисе и основным вопросом метафизики служит идея онтологического различия. Хайдеггер отделяет бытие, которое всегда понималось как бытие существующего, от самого существующего. Фактически бытие может функционировать только как носитель дионисического случившегося, события, если бытие (как исторический горизонт, внутри которого его существующее только и проявляется) в известной степени автономно. Только бытие, гипостазированно отличное от существующего, может взять на себя роль Диониса: «Оказалось, что бытие покинуло существующее. Покинутость бытия относится к бытию вообще, а не только к бытию на манер бытия человека, который представляет бытие как таковое, а в этом представлении от него ускользает само бытие в его истине» . Хайдеггер неутомимо разрабатывает тему позитивной власти этого ухода от бытия как тему события отказа. «Отсутствие бытия и есть само бытие как такое отсутствие» . В тотальном забвении бытия в модерне негативное этого забвения больше уже не воспринимается. Этим объясняется центральное значение анамнеза истории бытия, которую отныне можно понять как деструкцию забвения метафизикой самости . Все усилия Хайдеггера направлены на то, чтобы познать отсутствие, незащищенность бытия как приход, пришествие самого бытия и размышлять о том, что же познано при помощи этого приема» .
4) Хайдеггер отказывается интерпретировать деструкцию истории метафизики как разоблачение, преодоление метафизики или как последний акт разоблачения. Саморефлексия, позволяющая мыслить именно так, а не иначе, принадлежит отныне к эпохе субъективности Нового времени. Следовательно, мышление, которое пользуется онтологическим различием в качестве путеводной нити, неизбежно должно принимать во внимание познавательные компетентности по ту сторону познания, по ту сторону дискурсивного мышления вообще. Ницше вполне мог бы сделать своей специальностью «подведение под философию фундамента и почвы искусства»; на долю Хайдеггера остается только жест предостережения для посвященных - «существует мышление, более строгое, чем понятийное» . Сциентистское мышление и методически выверенное и осуществленное исследование одинаково подпадают под уничижительную переоценку, потому что они движутся внутри предписанного философией субъекта понимания бытия в модерне. Сама философия затвердевает, превращается в окаменелость, поскольку она не отказывается от аргументации, существует в магическом круге объективизма. Но и философия должна вести себя так, словно «любое опровержение в пространстве собственно мышления глупо» . Для того чтобы принять во внимание необходимость - особое знание, своего рода привилегированный путь к истине, - сделать это знание хотя бы внешне убедительным, Хайдеггер вынужден, однако, уравнять различные динамики развития послегегелевской науки и философии, причем совершенно поразительным способом.
В лекции о Ницше, прочитанной в 1939 г., есть интересная глава с подзаголовком «Согласование и расчет». Хайдеггер там критикует монологическое основание философии сознания. Эта философия идет от отдельного, единичного субъекта, который, познавая и действуя, противостоит объективному миру вещей и событий. Обеспечение прочного положения субъекта представляется просчитанным до мелочей способом обращения с предметами, которые воспринимаются и которыми манипулируют. Внутри этой модели должно высветиться еще одно, первоначальное измерение взаимопонимания и соглашения между субъектами, зафиксированное категорией «способности рассчитывать на другого человека (других людей)» . Хайдеггер между тем делает акцент на не-стратегическом смысле соглашений, ориентированных интерсубъективно, «на отношение к другому, к вещи и к самому себе» в их истинности: «Прийти к соглашению в чем-то, согласиться касательно чего-то означает: думать одно и то же и, если мнения расходятся, тут же утверждать позицию, исходя из которой существует на равных и соглашение, и раскол... Поскольку недоразумение и непонимание являются только девиантами соглашения, только при помощи согласования можно обосновать приход людей друг к другу в их самости и самостийности» (S. 578-579). В таком измерении соглашения заложены ресурсы для существования социальных групп, в частности и те источники социальной интеграции, которые иссякают в модерне.
Парадоксально, но Хайдеггер придерживается мнения, что такого рода взгляды имеют какое-то отношение к его критике метафизики. Он игнорирует тот факт, что совершенно аналогичные размышления стали исходным пунктом как для методологии понимающих, герменевтических социальных и гуманитарных наук, так и для влиятельных философских направлений - прагматизма Пирса и Мида, позднее - лингвистической философии Витгенштейна и Остина или философской герменевтики Гадамера. Философия субъекта ни в коей мере не является той абсолютно овеществленной силой, которая держит в своих цепях любое дискурсивное мышление и открывает путь к бегству только в непосредственность мистического погружения. Существуют другие пути, которые ведут из философии субъекта. Если в истории философии и науки после Гегеля Хайдеггер не увидел ничего, кроме азбучных истин онтологических пра-суждений философии субъекта, то это объясняется только тем, что, протестуя, не принимая, он остается в плену постановки проблемы, которую предложила ему философия субъекта в виде гуссерлевской феноменологии.
Гегель и Маркс, пытаясь преодолеть философию субъекта, оказались в плену ее понятий. Этот упрек нельзя выдвинуть против Хайдеггера, но можно привести не менее весомый контраргумент. Хайдеггер настолько привязан к проблемам и приемам трансцендентального сознания, что он не может преодолеть конструкцию основных понятий философии сознания иначе, чем следуя по пути абстрактного отрицания. Еще в «Письме о гуманизме», которое суммирует результаты работы по интерпретации Ницше, длившейся целые десять лет, Хайдеггер характеризует собственный образ мысли, имплицитно обращаясь к Гуссерлю. Он хотел «констатировать существенную помощь феноменологического видения и одновременно отказаться от намерения [создать] «науку» или исследование» .
Гуссерль понял трансцендентальную редукцию как акт, который должен позволить феноменологу проложить четкую разграничительную линию между миром существующего, как он дан в естественной установке, и сферой чистого конституирующего сознания, которое только и придает существующему его смысл. В интуитионизм этого акта Хайдеггер верил на протяжении всей жизни; в его поздней философии сам образ мысли окончательно освобождается от притязаний методического, он теряет свои границы и превращается в привилегированное «пребывание, местоположение в истине бытия». Постановка проблемы Гуссерлем является определяющей для Гуссерля в той мере, в какой сам Гуссерль превращает основной теоретико-познавательный вопрос в чисто онтологическое. В обоих случаях феноменологический взгляд обращен на мир как коррелят познающего субъекта. В отличие, например, от Гумбольдта, Джорджа Герберта Мида или позднего Витгенштейна, Хайдеггер не освобождается от традиционного акцента на «теоретический образ действий», констатированного употребления языка и притязаний пропозициональной истины на значимость. В манере отрицания, негации Хайдеггер, как оказывается, в конце концов тоже связан с фундаментализмом философии сознания. Во введении к работе «Что такое метафизика» он сравнивает философию с деревом, ветвями которого стала наука, а почва для корней - метафизика. Идея помыслить бытие не подвергает сомнению фундаменталистское основание: «Метафизика (чтобы не выходить из образа) не есть корень философии. Она дает основу философии и питает для нее почву» . Хайдеггер не отрицает и ни в чем не противоречит иерархизации падкой на самооснование философии; поэтому он может противостоять фундаментализму, только раскапывая еще один слой; этот слой залегает глубже [метафизики], а потому он еще более неопределен. Идея судьбы бытия в этом ракурсе железными цепями прикована к своей абстрактно отрицаемой противоположности. Хайдеггер выходит за горизонт философии сознания только для того, чтобы неподвижно застыть в ее тени. Прежде чем на примере «Бытия и времени» я более детально раскрою эту двойственную позицию, мне хотелось бы обратить внимание на три рискованных вывода.
а) С начала XVIII столетия дискурс о модерне поднимал под разными названиями одну и ту же проблему: ослабление, паралич сил, питающих социальные связи, приватизация и отчуждение, короче - деформация односторонне рационализированных повседневных практик, которые породили потребность в эквиваленте уменьшающейся власти религии. Одни возлагали свои надежды на рефлексивные силы разума или, по крайней мере, на мифологию разума; другие заклинали мифопоэтической силой искусства, которое и должно было стать центром регенерирующей общественной жизни. То, что Гегель называл потребностью в философии, превратилось [в ее истории] от Шлегеля до Ницше в потребность критического разума в новой мифологии. Но только Хайдеггер «выпарил» эту конкретную потребность, онтологизируя и фундаментализируя ее, до сухого остатка - бытия, которое бежит от существующего. При помощи этой подстановки Хайдеггер сделал непознаваемым и то и другое: и возникновение самой потребности из патологий двойственно рационализированного жизненного мира, и готовое на все субъективистское искусство как опытный и познавательный фон для радикализированной критики разума. Хайдеггер прячет очевидные искажения практики повседневности в шифрограмме «субъекта бытия» - непостижимой, отданной во власть философов. Одновременно он перекрывает возможности расшифровки, так как отбрасывает дефицитную практику соглашений в повседневности, считает ее забывшей о бытии, вульгарной, сосредоточенной на расчетах выгод собственного положения и отказывается признавать за удвоенной нравственной целостностью (тотальностью) жизненного мира ее право на существенный интерес .
b) Из поздней философии Хайдеггера вытекает еще одно следствие: критика модерна дает независимость относительно научных анализов и исследований. «Мышление по сути» отказывается от всех эмпирических и нормативных проблем, которые можно обработать при помощи метода и приемов истории, социальных наук или просто обсуждать в форме аргументов. Тем свободнее распространяются абстрактные взгляды на сущность в непроницаемом горизонте суждений буржуазной критики культуры. Критические - в духе критики времени - суждения о Man, о диктатуре общественности и публичности, о бессилии частного и личного, о технократии и массовой цивилизации лишены всякой оригинальности, потому что они входят в репертуар мнений немецких мандаринов . В школе Хайдеггера, несомненно, были сделаны серьезные попытки точнее соотнести онтологическое понятие техники, тоталитарного, политического с целями анализа современности; в этих попытках, однако, и состоит вся ирония: мышление бытия тем сильнее привязано к научной моде, чем больше оно верит в то, что вышло за границы пространства научного производства.
c) Проблематична неопределенность судьбы, что Хайдеггер в итоге ставит себе в заслугу - как результат преодоления метафизики. Потому что бытие неподвластно ассерторическому напору дескриптивных предложений; потому что оно ограничено косвенной речью и может «умолкнуть». Пропозиционально бессодержательная речь о бытии имеет вместе с тем иллокутивный смысл - поощрять верность, приверженность бытию. Практико-политический смысл этого дискурса состоит в перлюкативном эффекте содержательно диффузной готовности повиноваться ауратическому, но неопределенному авторитету. Риторика позднего Хайдеггера компенсирует пропозициональные содержания, от которых отказывается сам текст: риторика настраивает адресата на общение с псевдосакральными силами.
Человек - это «пастух бытия». Мышление - память о том, что можно принимать себя в расчет (Sichinanspruchnehmenlassen). Мышление «принадлежит» бытию. Память о бытии подчиняется «законам приличия и уместности». Мышление наблюдает за судьбой бытия. Смиренный пастырь призван самим бытием в истинность его истины. Так, бытие дает право благу, начало которого в преклонении и привязанности, обнаружить в себе зло и ярость. Это известные формулы из «Письма о гуманизме», которые с тех пор повторяются как стереотипы. Язык «Бытия и времени» внушал деционизм пустой решимости;
поздняя философия близка к декларативности такой же пустой готовности подчиниться. Очевидно, что пустую формулу «память» можно вытеснить другим установочным синдромом, например дерзкой установкой на отказ, которая больше отвечает современным настроениям, чем слепое подчинение высшему . Приводит в замешательство популярность этой фигуры мысли, которую можно так легко актуализировать в историческом времени.
Если осмыслять эти следствия, то неизбежно зарождается сомнение касательно того, что поздняя философия Хайдеггера, преодолевая критику метафизики Ницше, фактически уходит от дискурса о модерне. Сомнение возникает благодаря крутым поворотам и виражам, которые должны вывести из тупика «Бытия и времени». Правда, тупиком можно считать это самое строгое в плане аргументации исследование философа Хайдеггера только в том случае, если его поместить в другой историко-философский контекст, отличный от контекста, который Хайдеггер ретроспективно избрал для себя.
Фома Аквинский унаследовал представление о сущности и задачах метафизики от Аристотеля. Аристотель писал: «Есть некоторая наука, которая рассматривает сущее как таковое, а также то, что ему присуще самому по себе. Эта наука не тождественна ни с одной из частных наук: ни одна из других наук не исследует общую природу сущего как тако- ВОГО»205 В ЭТОЙ традиции метафизика рассматривалась как вопрошание о сущем как таковом (ens inquantum ens), как первая философия и как теология. Как отмечает Т. Гиббс, «сама грамматика ens in quantum ens свидетельствует, что она является общим исследованием того, что истинно, не в абстракции, но в каждом конкретно сущестующем бытии (ens)»170. Такое понимание метафизики принято называть «традиционной метафизикой». Кантовская критика метафизики стала одним из серьезнейших вызовов, стоявших перед томизмом в XIX-XX веке. Согласно этой точке зрения, человек может получить доступ к реальности только посредством некоторых априорно принимаемых суждений: «...мы ни в коем случае не можем знать вещи самой по себе,... все, что мы можем теоретически познать, ограничивается лишь явлениями»207. Следовательно, любая попытка традиционной метафизики выйти за рамки субъективного человеческого видения реальности к реальности как таковой является безуспешной. Согласно этой позиции бессмысленно говорить о том, каково сущее в действительности, поскольку человек не имеет прямого доступа к его природе. Самое большее, что доступно человеку - это изучение концептуальных рамок или схем, которые позволяют нам подойти как можно ближе к познанию реально- сти208. Таким образом, если метафизика и является возможной, то только как изучение наших концептуальных схем реальности.
Как уже отмечалось, наибольший вклад в преодоление кантовской критики знания внесли представители трансцендентального томизма, начало которому было положено работами П. Руссло и Ж. Марешаля (1878-1944)209. в отличие от Руссло, Марешаль был более философом, чем теологом. Главной темой, на которой сосредоточился томистский синтез Марешаля, была попытка построить диалоге идеализмом Канта и, используя собственный метод Канта, обосновать реалистскую мета- физику. Конечно, такой решительный шаг не мог рассматриваться положительно неосхоластами, так как они полагали, что главные принципы кантианства и томизма абсолютно несовместимы.
Марешаль со всей серьезностью принял вызов критической философии. Еще ранее П. Руссло в своих работах попытался примирить идеи М. Блонделя с учением Фомы Аквинского. Это дало Ма- решалю свежую исходную позицию для поиска решения проблем преодоления кантианства и в 1908 г. он опубликовал свою первую работу «Чувство присутствия в профанном и мистическом^гю, в которой попытался отказаться от феноменализма посредством проведения различия между репрезентационным и экзистенциальным характером знания. Как указывает У. Хилл, «знание было здесь динамизмом проецирования концептуального содержания на область реального посредством акта суждения; основанием этого было внутреннее стремление интеллекта к интуиции АбС0ЛЮТН0Г0»211.
Марешаль получил международное признание благодаря своему пятитомному главному труду «Отправная точка метафизики: Уроки развития истории и теории проблемы знания»2іг.
Главным вопросом для него было эпистемологическое обоснование реалистической метафизики бытия. Сравнительное изучение Канта и Аквината убедило Марешаля в том, что противоположность между кантовским идеализмом и томистским реализмом, которую большинство неосхоластов рассматривали как неустранимую, не должна быть неизбежным результатом использования кантовского трансцендентального метода. Марешаль считал, что если католическая теология желала сохранить твердую опору в реальности, кантианский идеализм должен был быть преодолен посредством реалистской эпистемологии, которая должна связать разум человека с экстраментальным миром и позволить обрести истинное, хотя ограниченное, спекулятивное знание Бога посредством аналогии сущего (analogia entis).
Марешаль акцентировал внимание на том, что томистская критика знания должна начинаться с «точного» рассмотрения реализма и идеа- лизма. Она может разработать свой путь от мира феноменов в мир реального бытия, используя трансцендентальный метод Канта. Марешаль показал невозможность получения удовлетворительного объяснения человеческого познания вне метафизического рассмотрения синтетического взаимодействия между чувствами и интеллектом как самими основаниями процесса познаниягіз. Понимание Марешалем суждения как живого отношения условного объекта к Необходимому Бытию через естественное движение ума к Богу играло важную роль в установлении совместимости трансцендентального метода Канта с томистским реализмом: «Для Марешаля контакт интеллекта с реальностью осуществляется не посредством абстрагирования концепций, как для неотомистов, но через собственный динамизм к Бесконечному Бытию»214. Интеллектуальный динамизм является первичным по отношению к статичным концептам.
Марешаль обнаружил большое сходство между кантовским и томистским методом в метафизике. Он полагал, что томистские замечания «что воспринято, воспринято согласно форме воспринимаю- щего»2^ и «интеллект познает истину посредством саморефлексии»2іб показывают, что Аквинат как и Кант был трансцендентальным философом. Несмотря на свое несогласие в вопросе о возможности метафизики, Кант и Фома разделяли одну концепцию того, чем должна быть метафизика: «Для них обоих отличительной характеристикой метафизики было строго универсальное и необходимое знание, которое Платон и Аристотель назвали ЄяістттРг|, и которое Кант и немецкие идеалисты называли наука (Wissenschaft)»2»?. Если метафизика должна доказать, что является спекулятивно верной, ее универсальные концепты должны давать возможность познания реальных сущностей.
Кант стоял в оппозиции Фоме и рационалистам в эмпиристской теории знания, которая должна лишить метафизику какого-либо вида законности. Метафизика для Канта имела свой источник в субъективной необходимости, которая побуждает дискурсивный ум обосновать свое знание. В стремлении поступать так, разум был дви- жим побуждением связать объекты своих необходимых и универсальных суждений с Абсолютно Совершенным Бытием как безусловной основой их интеллигибельного единства. В понимании Канта «метафизика была законной лишь как субъективный импульс разума объединить и обосновать свое знание, но она не была законным источником знания реальности»2ів.
Несмотря на сходство с Кантом в понимании существа метафизики, Фома не обнаруживает кантовского сомнения. В философии знания Фомы разум человека утверждает реальность объектов в связи с универсальным законом бытия, заключенном в принципе идентичности. Он может достичь непрямого и несовершенного знания божественного и духовной реальности через аналогию сущего2»». Марешаль стремился найти ответ на вопрос: почему, хотя и Фома, и Кант оба утверждали, что содержание концептуальных объектов дискурсивного разума должно быть получено разумом из данных чувственного опыта, дискурсивный интеллект Фомы мог объединить эти объекты под всеохватным, трансцендентальным и аналогичным единством бытия, в то время как их унификация кантовским дискурсивным разумом была ограничена однозначным и категориальным единством его феноменального мира пространства и времени? Если на этот вопрос может быть найден удовлетворительный ответ, то ограничения кантовского идеализма могут быть преодолены2:» Философия знания Фомы тогда сможет снабдить основанием для реалистской эпистемологии, а также оправдать спекулятивное знание Бога через аналогию сущего. Тогда может быть найдена правильная отправная точка реалистской метафизики, необходимая католической теологии, чтобы поддержать ее утверждения против возражений кантианства, эмпиризма и модернизма.
Марешаль отмечает, что для обоих философов все содержание человеческого концептуального знания было ограничено пространством и временем. Однако в дополнение к единству универсальной формы и единичной материи в «конкретативном синтезе» суждения в метафизическом анализе знания Фомы был другой элемент, на который Кант не обратил достаточного внимания в своем рассмотрении. Фома осо- бую роль в познании «отводил финальной причинности в поиске содействия чувств и интеллекта в едином акте человеческого познания»171. Естественная тенденция человеческого разума к его собственной конечной цели рассматривалась как свойство направлять активность чувственных способностей к их собственнойцели. Субстанциальная форма человека была его разумной душой, а в аристотелевской метафизике способностей низшие способности были направляемы природой высших, специфических способностей всей природы. Соответственно, благо человеческой природы заключалось в ее единстве с бесконечным Бытием, к которому стремится интеллект.
Поскольку знание умом условных объектов в суждении было не более чем частичным удовлетворением неограниченного вопроша- ния, которое направляет стремления человеческого интеллекта за пределы любого условного объекта, дискурсивный разум может связать каждый из его ограниченных объектов посредством принципа идентичности. Так, хотя каждый объект познания дает частичное удовлетворение уму в момент его утверждения в суждении, он немедленно становится снова источником дальнейшего вопрошания. Дж. Маккул пишет: «Финальность ума, которая оправдывает онтологическое утверждение в каждом суждении, была причиной, почему Фома был убежден, что абстракция концепта через совместную деятельность чувств и интеллекта, вместе с утверждением умом концептуальных объектов в суждении, может выполнять функцию основы реалистической метафизики бытия, которую платоники предназначали интеллектуальной интуиции. Каждый конечный условный объект был основан на безусловном Абсолюте»172. Кант принял аристотелевскую метафизику формы и материи как модель для априорного формирования объектов сознания посредством досознательной функции унификации. Однако, замечает Марешаль, хотя форма и материя могут быть достаточными для статичной интел- лигибельности объекта, для рассмотрения динамичной интеллиги- бельности прогрессивного движения требуется нечто большее173. Еще Аристотель говорил о том, что движения, как интеллигибельные тенденции, могут быть определены только посредством цели или конца, для их объяснения не было достаточно только формальной причинности, необходима была также финальная причинность.
Формирование или установление объекта сознания было, по мнению Марешаля, движением, интеллигибельным целенаправленным процессом; и это движение требует влияния существующего Абсолютного Бытия в качестве финальной причины. Влияние действительно существующего Бога на движущийся ум как финальной причины его активности было одним из априорных условий возможности для формирования какого-либо объекта в дискурсивном сознании. Марешаль пишет: «Если бы Кант был достаточно тщателен и последователен в использовании своего собственного трансцендентального метода, он не остался бы критическим идеалистом. Как сделал Фома, он должен был быть метафизическим реалистом. Кантовский идеализм не был результатом его трансцендентального метода. Он был результатом потери Кантом последовательности в
его использовании»224.
Используя собственный кантовский трансцендентальный метод, Марешаль намерен получить априорные условия возможности появления объекта сознания. Никаких обязательств ни к идеализму, ни к реализму не должно быть сделано до тех пор, пока этого не оправдает очевидность, открытая в критическом вопрошании. В пятой части своего труда Марешаль пишет: «Очевидно, что для того, чтобы объяснить происхождение и дифференциацию трансцендентальных концепций, которые мы получаем посредством третьей степени абстракции, мы не можем обратиться ни какому иному субъективному принципу, кроме как к априорной интеллектуальной способности^. Априорная интеллектуальная способность понимается динамически. Говоря об интеллектуальной априорности, действующем на третьей степени абстракции, Марешаль замечает: «Только принятие динамичной точки зрения... может обеспечить возможность объяснения аналогического значения трансцендентальных концептов»22б. Этот динамизм имеет своим предметом Бесконечное совершенное Бытие, Чистый Акт: «Поскольку объективная способность нашего интеллекта отвергает всякий предел, кроме небытия, 224
McCool G.A. The Neo-Thomists. P. 128. 225
Donceel J. A Marechal Reader. New York, 1970. P. 147. 226
она простирается до бытия чистого и простого. Такой формальной способности может соответствовать только одна абсолютно последняя цель: бесконечное 6ЬІТИЄ»227.
Собственный вывод Канта в «Критике чистого разума» заключался в том, что объекты сознания должны быть «феноменальными» объектами. Это было обусловлено тем, что объекты, которые могут «возникать» в дискурсивном сознании, являются уже «сформированными» из данных грубых ощущений посредством априорных чувственных форм пространства и времени и априорных категорий понимания. То, на что может быть похожа чувственная реальность до ее «трансформации» посредством априорных функций сознания, навсегда должно остаться неизвестной тайной. В итоге, как указывает Дж. Маккул: «Природа чувственной реальности должна всегда быть «неизвестным х» для дискурсивного разума. Реальная природа духовной реальности также должна оставаться таинственной, так как дискурсивному разуму недостает силы интеллектуальной интуиции, требуемой для познания ее. Следовательно, мир организованных объектов должен быть кантовским чисто феноменальным миром пространства и времени»228. Многие собственные допущения Канта, как утверждает Марешаль, говорят против этого идеалистического заключения. Собственный аргумент Канта в пользу законности метафизики, направленный против эмпиристов, заключался в том, что метафизика требуется как субъективная необходимость дискурсивного разума229. Внутренний динамизм дискурсивного сознания движет его к единству с его объектами и стремится обосновать их условность на безусловной необходимости Абсолютного Бытия. В «Трансцендентальной диалектике» Канта, бесконечное Абсолютно Совершенное Бытие требовалось, чтобы быть «регулятивной идеей» дискурсивного разума именно по этой причинегзо. Идеал, к которому дискурсивный разум побуждаем двигаться посредством этого необходимого субъективного импульса, был знанием бесконечного Бога и Абсолютно Совершенного Бытия. Это не могло быть иначе. Так как 227
Ibidem. Р. 165. 228
McCool G.A. The Neo-Thomists. P. 129. 229
Bradley D. J. M. Transcendental Critique and Realist Metaphysics / / The Thomist. 1975. V. 39. P. 640. 230
Кант. И. Критика чистого разума / / Кант И. Собр. соч. в 8 тт. М., 1994. Т. 3. С. 503-507.
никакой конечный и условный объект и никакой мир конечных и условных объектов не может удовлетворить неугасимое желание разума унифицировать и обосновать свое знание, стремление к во- прошанию дискурсивного разума означает, что поиск ответа на вопросы должен быть достигнут вне ограничений конечного мира объектов. Знание Бога как Бесконечной Безусловной Интеллиги- бельности было идеальной целью, к которой была направлена активность метафизического вопрошания.
Для Канта Бог, познаваемый дискурсивным разумом, должен оставаться приближением, «чисто регулятивной идеей». В кантов- ской критике знания, Он был априорным условием «конституиро- вания» объекта, одним из условий, чье утверждение логически требовалось для утверждения феноменального объекта. Так как спекулятивный разум был обеспокоен вопросом о возможности или невозможности Бога, стремление разума знать Бога оправдывало и направляло законную активность метафизического мышления. Но ни метафизика, ни какая-либо другая форма спекулятивного знания, не могла сказать что-либо о реальном существовании Бога. Это, возражает Марешаль, было серьезной ошибкой. Рассматриваемые статически, кантовские объекты сознания могут быть объяснены в терминах неподвижных форм, влитых в бесформную материю. В этом случае, конечно, объекты сознания должны быть чисто «феноменальными», и кантовский критический идеализм был бы оправдан. Однако эти объекты сознания, настаивает Марешаль, не могут рассматриваться как изолированные, бездвижные формы, с отсутствием интеллигибельного отношения друг к другу. «В движении вперед от форм пространства и времени через категории и схемы к трансцендентальному единству апперцепции, эти формальные элементы могут иметь смысл только в их динамическом отношении друг к другу как упорядоченные последовательные стадии единого динамического процесса формирования»2зі.
Марешаль был убежден, что необходимость включения финальной причинности среди условий возможности априорного конституирова- ния объекта познания достаточна, чтобы показать, что кантовский трансцендентальный метод должен вести к реализму. Появление объекта в сознании было результатом досознательного априорного
231 McCool G.A. The Neo-Thomists. P. 131.
движения к единству и утверждению объекта знания. То же внутреннее движение объекта, как Кант отмечает в «Трансцендентальной диалектике», побуждает ум объединить и обосновать свое знание на сознательном уровне в его непрестанной тенденции к Богу, как «трансцендентальному идеалу» спекулятивного разума. Следовательно, как отмечает Маккул, «непрерывное движение сознания и в априорном конституировании его объектов, и в научной унификации их на уровне сознания манифестирует себя как результат одной интеллигибельной тенденции, чьей предельной и специфической целью было знание бесконечного Бога и необходимого бытия»2зг.
Действительное существование Бога, следовательно, как цель интеллигибельного процесса, вовлеченного в конституирование каждого объекта сознания, должно быть включено среди априорных условий возможности его появления. Поэтому, согласно Марешалю, абсолютно говорить о каком-либо объекте и отвергать реальное существование Бога, означает создавать логическое противоречие2зз. Марешаль делает вывод, что если трансцендентальный метод Канта будет применен с тщательностью и глубиной, он приведет с логической необходимостью к метафизическому реализму Фомы, а не к критическому идеализму Канта.
Философский синтез Марешаля привел к разногласиям внутри школ томизма. Так, томист Б. Нахбар писал, что «Марешаль отверг
НЄ ТОЛЬКО букву, НО Сам ДУХ ТОМИСТСКОЙ фиЛОСОфСКОЙ ДОКТрИНЫ»234,
Марешаль полагал, что «словарь, общий для Аристотеля и Аквината был причиной представления о том, что томизм, в его внутренних принципах и структуре, есть аристотелевская философия на службе христианского исправления и усиления аристотелевской док- трины»235. С позицией Марешаля не соглашался Э. Жильсон: «Несмотря на очевидное присутствие аристотелевского уровня, томизм возник из аристотелизма не путем эволюции, но революции. Трансформация Аристотеля была произведена в главном, потому что св. Фома верил в теологическую доктрину творения, понимание Бога 232
McCool G.A. The Neo-Thomists. P. 131. 233
Bradley D. J. M. Transcendental Critique and Realist Metaphysics / / The Thomist. 1975. V. 39. P. 643. 234
Nachbar B. Is It Thomism? / / Continuum. 1968, № 6. P. 235. 235
Bradley D. J. M. Transcendental Critique and Realist Metaphysics / / The Thomist. 1975. V. 39. P. 638.
как Первой Причины, и идентифицировал actus essendi, а не форму как первичную актуальность в конечной субстанции. Говоря кратко, Аристотель и св. Фома достигли различных выводов, потому что их философские принципы были ра3личны»236.
Для Марешаля, также как и для Руссло, «интеллект был чувством реального исключительно потому, что он был чувством божественной^?. Марешаль и Руссло отличались от других томистов признанием важной роли за динамизмом интеллекта в основании достоверности метафизики2зв. «Метафизическая критика объекта Ма- решалем оправдывала нахождение ума в экстраментальной реальности посредством динамической связи концептуальных объектов разума с необходимым бытием Бога»2зэ. Доминиканцы, такие как Р. Гарригу-Лагранж и последователи Ж. Маритена24о, напротив, основывали познание умом реальности через непосредственный контакт интеллекта с реальным в абстрактной трансцендентальной концепции бытия. Для Э. Жильсона бытие было познаваемо через понимание умом конкретного условного существования в его утверждении чувственного единичного объекта. Маритен считал, что использование кантовского трансцендентального метода для обоснования реалистской метафизики «является неправомерным вмешательством и искажением принципиальных позиций Аквината»24і. Реакцией на работы Марешаля стало развитие более традиционной томистской эпистемологии такими мыслителями как Ж. Маритен и Э. Жильсон.
В мышлении Нового времени вплоть до современности вновь и вновь выдвигались возражения против возможности метафизики. Чаще всего они восходят к номинализму позднего Средневековья (со времен Уильяма Оккама, 1300-1349), который выхолащивает значимость всеобщего понятия (universale). Последнее не полностью отрицается (как в радикальном номинализме XI столетия), но рассматривается лишь как внешнее обозначение словом (nomen). Согласно учению позднего номинализма (называемого также концептуализмом), мы хотя и образуем понятия мышления, но они не схватывают самого смысла или сущности вещей. Представители этого направления мысли сами называли себя «nominales». Следовательно, мы можем исторически причислить их к номинализму, который в позднем Средневековье и в начале Нового времени считался «современным» и смог оказать дальнейшее влияние на новейшее мышление.
Если тем самым уже в сфере опыта понятия утрачивают свою реальную значимость, го еще меньше они могут осмысленно употребляться за пределами опыта. Высказывания о целокупности бытия становятся невозможными. Абсолютное бытие Бога рационально уже не достижимо, понятийно не выразимо. Метафизика становится невозможной.
Из этого исходит английский эмпиризм (Джон Локк, 1632-1704), радикальнее – Давид Юм (1711-1776). Чем менее значимо понятийно-рациональное мышление, тем более мы обращаемся к единичному опыту. Но опыт здесь редуцируется к голому чувственному впечатлению. После французского Просвещения (энциклопедисты), которое признавало одни лишь эмпирические науки, выступает позитивизм (Огюст Конт, 1798-1857), ограничивающий познание «позитивным» научным опытом. Конт различает теологический, метафизический и позитивный века. Если некогда мировые события мифологически-религиозно объяснялись посредством божественных сил, то метафизическое мышление апеллирует ко всеобщим и необходимым законам бытия. Истина, напротив, находится исключительно лишь в «позитивно» данном и эмпирически научно исследуемом.
При таких воззрениях усмотрение разумом не имеет самостоятельной, выходящей за пределы чувственного познания функции. Метафизика, требующая производить высказывания о целокупной действительности и, мысля, достигать абсолютного бытия, становится несостоятельной и бессмысленной. Однако уже Юму становится ясным, что редукция нашего познания к чувственным впечатлениям и соответствующая реконструкция цельного мира познания, базирующаяся исключительно на чувственных данных, должна потерпеть неудачу. Реальное бытие растворяется в связке чувственных качеств, в мире видимости чувственных феноменов. Но это не есть мир, в котором мы живем. Против Юма свидетельствует то, что мы никогда не живем в одном лишь чувственно воспринимаемом, но всегда в духовно пронизанном и понимаемом мире. И все же такие воззрения решающим образом воздействовали не только на Канта, но и на других, вплоть до неопозитивизма XX столетия.
Иммануил Кант (1724-1804) вышел из рационалистической школьной философии своего времени (Лейбниц, Вольф), но благодаря эмпиризму Юма пробудился от «догматической спячки». «Критика чистого разума» (1781) ставит вопрос о возможности метафизики как науки. При этом Кант предполагает понятие метафизики в духе своего времени – не как знание о бытии, а как чистую, основанную на разуме науку о сферах специальной метафизики (согласно Вольфу): душа, мир и Бог. Таким же образом он исходит из понимания науки согласно норме точного математически-естественнонаучного познания: как знания о всеобщих и необходимых законах. Чтобы решить вопрос о возможности метафизики, он восходит к предшествующим (априорным) условиям возможности познания. В этом состоит трансцендентальный поворот его мышления: от предмета (объекта) к его «a priori» (до всякого опыта) данным условиям (в субъекте). Последние суть, согласно Канту, априорные формы чувственного созерцания (пространство и время), чистые рассудочные понятия (категории) и идеи чистого разума. Однако познание вынуждено ограничиться «синтезом» чувственного созерцания и мышления рассудка. Поэтому для Канта оно ограничено «возможным опытом» и (в рамках его сферы) «голым явлением». «Вещь сама по себе» предположена, но остается непознаваемой.
Идеи чистого разума (душа, мир и Бог) даны нам a priori благодаря сущности разума, мы должны их «мыслить» сообразно разуму, но не можем их «познавать» как действительные, ибо для этого недостает чувственного созерцания. Нет места познанию как синтезу созерцания и мышления. Метафизика как наука невозможна.
Тем не менее метафизика остается для Канта не только «природной склонностью» человека, согласно которой мы обязаны мыслить «Бога, свободу и бессмертие», но не познавать что-либо действительное. В «Критике практического разума» (1788) метафизика вновь возникает в форме «постулатов практического разума» как содержаний «веры», т. е. практически-нравственной веры разума, но не строгого «знания», как его понимает Кант согласно норме точного естествознания своего времени.
Кантовская критика метафизики имела далеко идущие последствия. С одной стороны, из кантовского «трансцендентального» мышления исходит немецкий идеализм (Фихте, 1762-1814; Шеллинг, 1775-1854; Гегель, 1770-1831), который сконструировал обширные системы спекулятивного мышления, поскольку возродил метафизическое устремление, однако в значительной мере предался пантеистическому влечению (особенно Гегель).
С другой стороны, после упадка идеализма (после смерти Гегеля в 1831) прогрессировало анти-метафизическое позитивистское , а также материалистически-атеистическое мышление, отчасти опирающееся на Канта. Тезис о том, что метафизика невозможна, казался окончательно доказанным; он превратился в догму. Кант был понят (или ложно понят) как разрушитель всякой метафизики, поэтому ее представители (особенно в схоластике) боролись с ним как с заклятым врагом. Лишь много позже (особенно начиная с Жозефа Марешаля, 1878-1944) «трансцендентальное» мышление в Кантовом смысле было позитивно воспринято и оценено, чтобы «преодолеть Канта благодаря Канту» и произвести новое основоположение метафизики.
В совершенно ином смысле критикует метафизику Мартин Хайдеггер (1889-1976). Хотя он ставит вопрос о «смысле бытия» («Бытие и время», 1927), но вся традиционная метафизика осуждается им как «забвение бытия», ибо она вопрошала лишь о «сущем» (о его сущности и сущностных законах), но не вопрошала о «бытии», благодаря которому «есть» сущее. Метафизика, по сути, есть «нигилизм», ибо «не имеет ничего общего с бытием». Настойчиво ставившийся Хайдеггером вопрос о бытии оказал длительное влияние на метафизическое мышление (Жильсон, Зиверт, Лотц и др.) и вызвал новое осмысление бытия (от actus essendi вплоть до ipsum esse у Фомы). Хайдеггер подчеркивал «онтологическое различие» между сущим и бытием. Однако он понимает бытие как время и историю бытия, т. е. как темпорально-историческое событие, которое наделяет нас соответствующей судьбой, а также исторически обусловленным пониманием бытия. Оно соответствует раннегреческой власти судьбы (moira) и образует предельный горизонт мышления. Отсюда вряд ли есть путь к метафизическому мышлению бытия, которое Хайдеггер решительно отвергает (особенно «Статьи», 1989). Метафизика «преодолена». Это воззрение, связанное с влиянием нигилизма Ницше, в настоящее время оказывает заметное влияние, примером тому – «постмодерн».
Совершенно по-иному к метафизике подходит аналитическая философия, которая развивалась частично в Англии (из эмпиристской традиции), частично в Вене («Венский кружок» 30-х годов). Она поначалу представляла преимущественно «неопозитивистское» воззрение. Так, в Вене (М. Шлик, Р. Карнап и др.) критерием смысла стали считать «верифицируемость». Предложение (высказывание) может лишь тогда считаться объективно «осмысленным», когда оно принципиально верифицируемо, т. е. удостоверяемо данными опыта, следовательно, интерсубъективно перепроверяемо. Высказывание, превышающее эти пределы и этому критерию не соответствующее, ни истинно ни ложно, а просто «бессмысленно», ибо беспредметно. Метафизическое высказывание, поскольку оно эмпирически не верифицируемо, есть пустая «поэзия понятий», лишенная объективной познавательной ценности.
Это воззрение исповедовала уже ранняя критика, в особенности К. Поппер, а также Л. Витгенштейн, которые никогда не принадлежали к кружку, но оказали на него влияние. Между тем аксиома смысла сама есть высказывание, которое эмпирически не верифицируемо, однако претендует быть не только осмысленным, но и нормативно значимым. Так как сверх того всеобщее высказывание вообще эмпирически адекватно не верифицируемо, то верифицируемость заменяется (уже К. Поппером) «фальсифицируемостью»: даже отдельный факт может опровергнуть значимость всеобщего предложения. Хотя позитивизм этим смягчен, но не преодолен.
Однако узко позитивистская установка задается почти повсюду в дальнейшем развитии аналитической философии. Между тем философы, принадлежащие к этому направлению мысли, особенно в англосаксонском мире (Англия, США), занимаясь сегодня, например, философией религии (Philosophy of Religion), пытаются объяснить отношение тела и души (Philosophy of Mind) и обращаются преимущественно к проблемам, традиционно считавшимся «метафизическими» (сущностные отношения и т. п.). Таким образом, аналитическая философия, если она позитивистски не сужена, оказывается критически-коррективным, позитивно интегрируемым элементом метафизического мышления, но не его основополагающим методом.
Уже Кант установил, что «аналитическое суждение» (рационализм) не является достаточным для обоснования научного, тем более метафизического, познания, ибо оно есть «поясняющее суждение», а не «расширяющее суждение». Аналитически можно эксплицировать лишь то, что мы уже (имплицитно) знаем и высказываем, но отсюда не происходит прогресс познания. Это точно так же в значительной мере касается и аналитической философии, поскольку она остается чисто «аналитической». В таком случае она может анализировать и корректировать суждения критикой языка, однако не ведет к дальнейшим уразумениям , тем более в сфере метафизики. Последняя предполагает методически иное обоснование, которое Кант формирует в «синтетических суждениях a priori»; к этому мы еще вернемся в вопросе о методе.